Глава 1
«Новое политическое мышление»,
политико-экономические реформы
и распад СССР (1985–1991)[1]
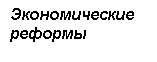 В феврале 1986 г. на
XXVII съезде КПСС была предложена концепция «ускорения
социально-экономического развития страны». Казалось, что все беды экономики
происходят от распыления средств, от недостаточной продуманности
капиталовложений. Поэтому главным стержнем ускорения было изменение
инвестиционной политики. Предусматривалось перераспределение капиталовложений
в отрасли, определяющие технический прогресс, в первую очередь, в
машиностроение. В него планировалось вложить в 1,8 раз больше средств, чем в
предшествующую пятилетку, и на этой основе в кратчайший срок построить новые
заводы, реконструировать старые, обеспечить техническое перевооружение
отрасли, осуществить электронизацию, компьютеризацию, освоение самых передовых
технологий, в первую очередь ресурсосберегающих. По существу речь шла о второй
индустриализации страны.
В феврале 1986 г. на
XXVII съезде КПСС была предложена концепция «ускорения
социально-экономического развития страны». Казалось, что все беды экономики
происходят от распыления средств, от недостаточной продуманности
капиталовложений. Поэтому главным стержнем ускорения было изменение
инвестиционной политики. Предусматривалось перераспределение капиталовложений
в отрасли, определяющие технический прогресс, в первую очередь, в
машиностроение. В него планировалось вложить в 1,8 раз больше средств, чем в
предшествующую пятилетку, и на этой основе в кратчайший срок построить новые
заводы, реконструировать старые, обеспечить техническое перевооружение
отрасли, осуществить электронизацию, компьютеризацию, освоение самых передовых
технологий, в первую очередь ресурсосберегающих. По существу речь шла о второй
индустриализации страны.
В отличие от 30-х годов,
когда индустриализация осуществлялась при опоре на собственные силы,
предусматривалось широкомасштабное привлечение иностранных кредитов. Ожидаемый
быстрый подъем экономики позволил бы вернуть их в кратчайшие сроки.
Программа технического
перевооружения сразу же натолкнулась на инерцию системы. Перевод на 2–3-х
сменную работу потребовал изменения графика работы транспорта, магазинов,
столовых, детских учреждений, поэтому и не был осуществлен в сколько-либо
крупных масштабах. В условиях всеобщего дефицита и монополизма производителя
лозунг улучшения качества выглядел просто нелепо – брали любую продукцию. Меры
же, направленные на укрепление дисциплины, были настолько непродуманными, что
кроме вреда ничего не принесли.
Особый ущерб, как экономике
страны, так и авторитету власти нанесла антиалкогольная кампания,
развернувшаяся начиная с мая 1985 года. В ряде районов было введено полное
запрещение продажи алкоголя, началась массовая вырубка виноградников в Армении
и Крыму. Бесконечные очереди за водкой вели к унижению людей, к массовому
озлоблению народа. Возросло производство самогона, употребление суррогатов.
Принимаемые меры не были экономически обоснованы – доходы от продажи водки
составляли значительную часть доходов бюджета (по некоторым подсчетам до 30%).
Ущерб от антиалкогольного законодательства составил около 40 млрд. рублей.
Огромный ущерб нанесла
экономике Чернобыльская катастрофа. 25 апреля 1986 г. на атомной станции
произошел взрыв реактора и пожар. Радиоактивное облако затронуло ряд
европейских стран и, в первую очередь, Украины и Белоруссии. Было эвакуировано
свыше 120 тыс. человек. С трудом удалось предотвратить радиоактивное заражение
Днепра и ряда других рек. Трагедия имела воистину планетарный масштаб, для
ликвидации ее последствий потребовались огромные средства – все планы
экономического роста сразу же оказались нарушенными.
Началась коренная
перестройка руководства экономикой. Министерства должны были руководить
предприятиями не директивно, а с помощью экономических рычагов – кредитов,
госзаказов, системы цен.
Летом 1989 г.
коллективы предприятий получили право брать их в аренду и выходить из состава
министерств. Заводы и фабрики различных министерств могли теперь объединяться в
концерны, акционерные общества. Предприятиям было разрешено выпускать акции.
В сельском хозяйстве
провозглашалось равноправие всех форм собственности, развитие арендных
отношений на селе. Программа ускорения требовала для своего осуществления
гигантских капиталовложений в промышленное развитие. Начали осуществляться
крупные социальные программы: «Жилье до 2000 г.», повышение пенсий, стипендий
студентам. Затраты на них не вели к увеличению выпуска товаров.
Падение мировых цен на нефть,
составляющую основную статью экспорта, привело к сокращению валютных поступлений.
Правительство вынуждено было резко сократить импорт, но сокращение это
произошло за счет предметов потребления, лекарств, продовольствия – импорт же
машин и оборудования продолжался. Это еще более осложнило положение на
потребительском рынке.
На руках населения стали
скапливаться значительные денежные средства, не обеспеченные товарными
ресурсами. В то же время цены, установленные государством, согласно идеологии
социализма, оставались неизменными. Теперь не успевали поставлять товары в
магазин – прилавки мгновенно пустели. Магазины стояли без товаров, а домашние
холодильники были полны. Все большие масштабы принимала теневая экономика – на
перепродаже товаров наживались огромные состояния. Чтобы удовлетворить запросы
потребителей был увеличен импорт потребительских товаров на кредитной основе.
Государство влезло в долги, но стабилизировать рынок не удавалось.
С 1989 г. инфляционные
процессы приняли лавинообразный характер. Предприятия, стремясь избавиться от
денег, начали вкладывать их в любые виды ресурсов. Резко возросли
сверхнормативные запасы. Во взаимоотношениях друг с другом предприятия стали
переходить к безденежному товарообороту, отказывались от госзаказа.
Рост цен, вызванный
инфляцией, привел к тому, что колхозы и совхозы стали отказываться продавать
государству продукцию и искать пути непосредственного натурального обмена с
предприятиями. При рекордных урожаях (1989 г.– 211 млрд. т.,
1990 г.– 230 млрд. т. зерна) стал ощущаться недостаток
продовольствия.
Стало ясно, что политика
ускорения социально-экономического развития, провозглашенная XXVII съездом,
потерпела крах, окончательно разбалансировала экономику. Страна встала перед
необходимостью резко ограничивать капиталовложения в строительство, свертывать
производственный импорт и перераспределять ресурсы на выпуск и закупку
потребительских товаров.
В связи с экономическим
кризисом возросли сепаратистские тенденции. Республики вводили таможенные
барьеры, ограничивали вывоз со своих территорий промышленных товаров и
продуктов питания, стали рушиться экономические связи.
Недовольство народа
отсутствием товаров вызывало массовые забастовки, что еще более усугубило
положение. Началось уже не замедление темпов, а сокращение производства.
Все более утверждалось
мнение, что социалистическая система не реформируема в принципе – надо менять
ее в корне. Постепенно такая точка зрения все более утверждалась в общественном
сознании. Единственный выход виделся в переходе к рыночной экономике.
Программа
такого перехода была разработана осенью 1990 г. группой С. Шаталина и
Г. Явлинского. Она предусматривала в качестве первого шага приватизацию
экономики как путем бесплатной передачи, так и путем продажи. Приватизация
позволила бы связать денежные накопления населения, привела бы к
демонополизации, к созданию конкуренции предприятий. Следующим шагом должна была стать либерализация цен, переход к
свободному ценообразованию. Это привело бы к скачку цен, но в условиях конкуренции
производителей и жесткой дефляционной политики правительства, ограничивающей
количество денег в обращении, скачок, по мнению авторов, был бы кратковременным – цены должны были стабилизироваться и начать
снижаться. Все эти меры должны были сопровождаться твердой социальной
политикой (повышением пенсий, стипендий студентам, индексации доходов). Вся
программа была рассчитана на 1,5 года и получила название «500 дней».
Этот план хорошо соответствовал стереотипу мышления, утвердившемуся в
массовом сознании, обещая молниеносные изменения к лучшему. Проект
Г. Явлинского был взят на вооружение Советом министров Российской
Федерации и фактически превратился в орудие политической борьбы с центром, с
«консерваторами, не хотевшими каких-либо преобразований».
Экономика Союза становилась неуправляемой. Правительство В. Павлова,
сменившего Н.А. Рыжкова, не решалось на кардинальные шаги, провело лишь
ряд конфискационных мер (замораживание вкладов в сберкассах, введение 5%
налога с продажи, повышение цен на 50–70% и т. д.).
Государственный долг СССР
достиг астрономической цифры 60 млрд. долларов. Золотой запас страны за
1985–1991 гг. сократился в 10 раз и составлял всего 240 т. В 1991 г.
по всей стране, включая Москву, были введены карточки на основные продукты
питания, винно-водочные изделия, табак. Необходимы были кардинальные,
решительные меры.